«Освобождение политических заключенных должно стать необходимым условием для переговоров»
Сергей Давидис и Иван Павлов об уроках прошлогоднего обмена, будущем политзеков и практических инструментах борьбы за свободу
Free Russia Foundation 04.08.2025

Сергей Давидис и Иван Павлов об уроках прошлогоднего обмена, будущем политзеков и практических инструментах борьбы за свободу
Free Russia Foundation 04.08.2025

Год назад в этот день состоялся исторический обмен политзаключенными между Россией, Беларусью и странами Запада. Обмен стал самым масштабным со времен завершения Холодной войны, подготовка процесса в разных формах велась с 2022 года, однако долгое время уверенности в том, что обмен состоится, не было.
В апреле 2024 года стороны возобновили переговоры, а в конце июля из мест лишения свободы неожиданно «пропала» группа российских политзаключенных. 1 августа 2024 года все они приземлились в аэропорту Кельна. Среди освобожденных были художница Саша Скочиленко, политики Владимир Кара‑Мурза и Илья Яшин, глава уфимского штаба Навального Лилия Чанышева и многие другие.
Один из ключевых акторов российской оппозиции и создатель ФБК Алексей Навальный тоже фигурировал в списках на обмен. Его освобождение стало бы беспрецедентным успехом правозащитного сообщества, но этому не суждено было сбыться. 16 февраля Алексея убили в российской колонии за Полярным кругом.
С исторического обмена прошел год, но его продолжают обсуждать. Возможно ли идти на сделки с диктаторами, обменивая невиновных людей на преступников и убийц? Состоятся ли новые обмены и, если да — кто и как попадает в списки? Наконец, решают ли обмены глобальную проблему сфабрикованных политических дел в стране, где только количество приговоров по «госизмене» выросло в четыре раза за последние три года?
Об этом и многом другом мы поговорили с правозащитником Сергеем Давидисом и создателем правозащитного проекта «Первый Отдел», адвокатом Иваном Павловым.
FRF: Сразу после того, как состоялся обмен, было много обсуждений его правомочности, самой природы этой “сделки с диктатором”. Как вы это оцениваете? И шире — как вообще устроен механизм обменов, как он работает и как его следует понимать с точки зрения международной политики?
Сергей Давидис: Говорить про обмены во множественном числе пока не приходится, потому что фактически он был один. Были еще обмены иностранцев на шпионов, но это немного другая история.
А именно политзаключенных меняли только однажды, год назад. Логика возражений мне вполне понятна и заслуживает уважения. С одной стороны, действительно, реальных преступников, которые в рамках демократической процедуры независимым судом признаны виновными, отпускают в обмен на людей, никаких преступлений не совершавших.
При этом невиновных диктатура может сколько угодно сажать за решетку. В то время как судом демократического государства осудить такое количество обменного фонда, с другой стороны, нереально.
Диктатура может при желании сажать тысячами, а демократическое государство докажет вину только если совершено реальное преступление. Так что в некотором роде это действительно сделка. С другой стороны, невозможно же сказать “раз сделка, тогда пускай все эти невиновные люди сидят в тюрьме”.
Я считаю, что в сложившихся обстоятельствах обмены можно только приветствовать. В конце концов, существует много инструментов для того, чтобы предотвращать преступления, которые инспирированы диктатурой в демократических странах. И это не только суд и срок, но и превентивная работа спецслужб, более тщательный контроль.
Кроме того, обмен, как мы видим, это разовое мероприятие. И поскольку оно не системно, его вполне можно приветствовать.
FRF: Хорошо, пока это не системное явление, но стоит ли пытаться сделать его таковым? Насколько это может помочь в решении проблемы? И если не поможет — какой подход может быть альтернативным?
Сергей Давидис: Безусловно, системными обмены не сделать, и проблему это не решит. Проблему решит освобождение всех политзаключенных, их не должно быть ни в какой стране.
Понятно, что это звучит как утопическое пожелание, но всякая диктатура существует не в вакууме, и путинская — не исключение.
Как бы путинская Россия ни притворялась, что она абсолютно автономна от западного мира, в действительности это, конечно, не так. Посмотрите, как российское руководство сейчас пляшет вокруг Трампа. А раз так, на всякую диктатуру можно влиять.
В данном случае ставить в рамках мирных переговоров условие об освобождении, по крайней мере, тех людей, которые лишены свободы за свою антивоенную или проукраинскую позицию в России. Никакая война не длится вечно, однажды эти переговоры состоятся.
FRF: Вы думаете, Россия на это пойдет?
Сергей Давидис: Думаю, да. Более того, Российская Федерация включила в свой меморандум в Стамбуле некую «амнистию политзаключенным». Пока неясно, что под этим понимается, но российская сторона сделала это по своей воле.
Очевидно, это позиция торга. Есть такая инициатива People First, запущенная совместно Мемориалом и украинской правозащитной организацией «Центр гражданских свобод».
Это кампания, которая требует от американской администрации сделать освобождение всех узников войны обязательным условием мирных переговоров. Под узниками войны здесь понимаются и незаконно арестованные гражданские лица, и военнопленные, и депортированные дети, и российские политзаключенные.
Инициативу уже поддержали более 70 правозащитных организаций во всем мире. Властные структуры разных стран тоже обратили на нее внимание и выразили поддержку. Очевидно, что приоритетным элементом любого мирного урегулирования должно быть освобождение людей, незаконно лишенных свободы.
И нет никаких оснований полагать, что это пустые мечты и абсолютно невыполнимое условие.
FRF: То есть у Запада есть рычаги давления на Россию, которые могут сделать такое освобождение возможным?
Сергей Давидис: Путинский режим любит бахвалиться, что санкции ему только помогают. Но, конечно, это не так. Санкции имеют долгосрочный эффект, экономические проблемы мы уже наблюдаем, и очевидно, что российское руководство заинтересовано в ослаблении санкционного давления. В процессе мирного урегулирования вопрос возможного ослабления санкций тоже непременно всплывет.
И важно, чтобы принципиальным условием стало освобождение людей, которых Россия незаконно лишила свободы. Вот это будет системное решение.
FRF: Если вернуться к теме возможного повторения обменов: как формируются списки? Кто в них попадает? Есть ли шанс у менее известных политзаключенных, число которых сегодня растет, оказаться в этих списках?
Сергей Давидис: Насчет возможности новых обменов, что‑то определенное сказать сложно. Может быть, будет еще один, максимум два. Хотя пока не понятно даже на кого политзаключенных менять. Насчет списков: у совсем малоизвестных людей шансов попасть в списки нет. Ведь состав списка это политическое решение властей тех стран, которые освобождают кого‑то взамен на российских политзаключенных.
Политические лидеры должны понимать, почему они принимают решение содействовать обмену отдельных людей, причины должны быть понятны и обществу. Обществу этого политзека нужно, очень грубо говоря, «продать». Потому что в демократических странах государство несет ответственность за принятые решения перед гражданами. Если о человеке ничего неизвестно, то и убедить своих граждан в том, что его нужно освободить невозможно.
Есть вариант с формированием каких‑то свободных списков для всех людей, которые лишены свободы по политическим мотивам, и заслуживают освобождения по максимально широким критериям. Здесь известность уже принципиальной роли играть не будет, поскольку речь идет о формальных критериях.
FRF: Что это за критерии?
Сергей Давидис: Ну, к примеру, что какие‑то организации, пользующиеся уважением, авторитетом, признают этих людей политзаключенными и считают, что их необходимо включить список. Но здесь уже речь идет о глобальном освобождении.
И может быть, путинский режим скажет, нет, 3 тысячи человек мы не освободим. Освободим только тысячу. В таком случае будут анализироваться аргументы, кейсы.
Но, в целом, фактор публичности, конечно, играет большую роль. И в конце концов, когда о людях действительно ничего не известно, это зачастую результат их собственной позиции, позиции их родных, их адвокатов. То есть они не хотят публичности.
Но давайте еще раз посмотрим на список людей, которых освободили год назад. Это, в основном, либо граждане иностранных государств, либо люди с двойным гражданством, либо действительно заметные публичные фигуры, чьи кейсы активно продвигали, создавали публичность, медийность.
И кстати, это не то же самое что «социальный капитал». Например, социальный капитал адвоката Талантова очень велик, а вот медийности ему не хватало. У Саши Скочиленко вообще не было медийности, пока не запустили масштабную кампанию в ее поддержку.
FRF: Давайте поговорим о том, как обстоят сейчас дела с обвинениями по политическим статьям. Иван, в последние годы очень выросло количество арестов по статье о госизмене. В чем, на ваш взгляд, интерес российского государства? Почему используется именно эта уголовная статья — чем она удобна или выгодна власти?
Иван Павлов: Это признак военного времени. На самом деле первую вспышку таких обвинений мы наблюдали еще в 2015 году.
Если раньше по этой статье выносилось 2–3 приговора в год, то в 15‑м году в судах рассмотрели уже 15 дел. До полномасштабного вторжения эта цифра почти не менялась. А после февраля 2022 года произошел еще один всплеск.
С начала действия нового уголовного кодекса в 1997 году, было возбуждено всего 200 делпо госизмене, шпионажу, и конфиденциальному сотрудничеству. При этом только за 3 года войны, мы зафиксировали 800 новых дел по таким статьям. Это в 4 раза больше, чем за предыдущие 25 лет.
Вот такая вот статистика. Есть внешние враги, они известны. А поиск внутренних врагов обуславливается в уголовном кодексе именно этими статьями.
FRF: Правильно ли я понимаю, что большинство обвинений в госизмене касаются Украины? Или встречаются случаи, связанные с другими «недружественными государствами»?
Иван Павлов: Сейчас это в большинстве случаев Украина. Раньше по‑разному было, даже «дружественный» Китай встречался. Но сейчас подавляющее число кейсов — это, конечно, Украина.
FRF: Как устроен механизм фабрикации уголовных дел по таким статьям? Можно ли говорить о повторяющемся паттерне? В последнее время мы видим несколько дел с участием совсем молодых людей — по схожему сценарию: их находят в оппозиционных чатах, выходят на контакт, а потом провоцируют на действия, которые квалифицируются как преступление. Насколько это стало системой?
Иван Павлов: Давайте для начала разберемся, что такое «госизмена», и как это работает.
Год назад в этот день состоялся исторический обмен политзаключенными между Россией, Беларусью и странами Запада. Обмен стал самым масштабным со времен завершения Холодной войны, подготовка процесса в разных формах велась с 2022 года, однако долгое время уверенности в том, что обмен состоится, не было.
В апреле 2024 года стороны возобновили переговоры, а в конце июля из мест лишения свободы неожиданно «пропала» группа российских политзаключенных. 1 августа 2024 года все они приземлились в аэропорту Кельна. Среди освобожденных были художница Саша Скочиленко, политики Владимир Кара‑Мурза и Илья Яшин, глава уфимского штаба Навального Лилия Чанышева и многие другие.
Один из ключевых акторов российской оппозиции и создатель ФБК Алексей Навальный тоже фигурировал в списках на обмен. Его освобождение стало бы беспрецедентным успехом правозащитного сообщества, но этому не суждено было сбыться. 16 февраля Алексея убили в российской колонии за Полярным кругом.
С исторического обмена прошел год, но его продолжают обсуждать. Возможно ли идти на сделки с диктаторами, обменивая невиновных людей на преступников и убийц? Состоятся ли новые обмены и, если да — кто и как попадает в списки? Наконец, решают ли обмены глобальную проблему сфабрикованных политических дел в стране, где только количество приговоров по «госизмене» выросло в четыре раза за последние три года?
Об этом и многом другом мы поговорили с правозащитником Сергеем Давидисом и создателем правозащитного проекта «Первый Отдел», адвокатом Иваном Павловым.
FRF: Сразу после того, как состоялся обмен, было много обсуждений его правомочности, самой природы этой “сделки с диктатором”. Как вы это оцениваете? И шире — как вообще устроен механизм обменов, как он работает и как его следует понимать с точки зрения международной политики?
Сергей Давидис: Говорить про обмены во множественном числе пока не приходится, потому что фактически он был один. Были еще обмены иностранцев на шпионов, но это немного другая история.
А именно политзаключенных меняли только однажды, год назад. Логика возражений мне вполне понятна и заслуживает уважения. С одной стороны, действительно, реальных преступников, которые в рамках демократической процедуры независимым судом признаны виновными, отпускают в обмен на людей, никаких преступлений не совершавших.
При этом невиновных диктатура может сколько угодно сажать за решетку. В то время как судом демократического государства осудить такое количество обменного фонда, с другой стороны, нереально.
Диктатура может при желании сажать тысячами, а демократическое государство докажет вину только если совершено реальное преступление. Так что в некотором роде это действительно сделка. С другой стороны, невозможно же сказать “раз сделка, тогда пускай все эти невиновные люди сидят в тюрьме”.
Я считаю, что в сложившихся обстоятельствах обмены можно только приветствовать. В конце концов, существует много инструментов для того, чтобы предотвращать преступления, которые инспирированы диктатурой в демократических странах. И это не только суд и срок, но и превентивная работа спецслужб, более тщательный контроль.
Кроме того, обмен, как мы видим, это разовое мероприятие. И поскольку оно не системно, его вполне можно приветствовать.
FRF: Хорошо, пока это не системное явление, но стоит ли пытаться сделать его таковым? Насколько это может помочь в решении проблемы? И если не поможет — какой подход может быть альтернативным?
Сергей Давидис: Безусловно, системными обмены не сделать, и проблему это не решит. Проблему решит освобождение всех политзаключенных, их не должно быть ни в какой стране.
Понятно, что это звучит как утопическое пожелание, но всякая диктатура существует не в вакууме, и путинская — не исключение.
Как бы путинская Россия ни притворялась, что она абсолютно автономна от западного мира, в действительности это, конечно, не так. Посмотрите, как российское руководство сейчас пляшет вокруг Трампа. А раз так, на всякую диктатуру можно влиять.
В данном случае ставить в рамках мирных переговоров условие об освобождении, по крайней мере, тех людей, которые лишены свободы за свою антивоенную или проукраинскую позицию в России. Никакая война не длится вечно, однажды эти переговоры состоятся.
FRF: Вы думаете, Россия на это пойдет?
Сергей Давидис: Думаю, да. Более того, Российская Федерация включила в свой меморандум в Стамбуле некую «амнистию политзаключенным». Пока неясно, что под этим понимается, но российская сторона сделала это по своей воле.
Очевидно, это позиция торга. Есть такая инициатива People First, запущенная совместно Мемориалом и украинской правозащитной организацией «Центр гражданских свобод».
Это кампания, которая требует от американской администрации сделать освобождение всех узников войны обязательным условием мирных переговоров. Под узниками войны здесь понимаются и незаконно арестованные гражданские лица, и военнопленные, и депортированные дети, и российские политзаключенные.
Инициативу уже поддержали более 70 правозащитных организаций во всем мире. Властные структуры разных стран тоже обратили на нее внимание и выразили поддержку. Очевидно, что приоритетным элементом любого мирного урегулирования должно быть освобождение людей, незаконно лишенных свободы.
И нет никаких оснований полагать, что это пустые мечты и абсолютно невыполнимое условие.
FRF: То есть у Запада есть рычаги давления на Россию, которые могут сделать такое освобождение возможным?
Сергей Давидис: Путинский режим любит бахвалиться, что санкции ему только помогают. Но, конечно, это не так. Санкции имеют долгосрочный эффект, экономические проблемы мы уже наблюдаем, и очевидно, что российское руководство заинтересовано в ослаблении санкционного давления. В процессе мирного урегулирования вопрос возможного ослабления санкций тоже непременно всплывет.
И важно, чтобы принципиальным условием стало освобождение людей, которых Россия незаконно лишила свободы. Вот это будет системное решение.
FRF: Если вернуться к теме возможного повторения обменов: как формируются списки? Кто в них попадает? Есть ли шанс у менее известных политзаключенных, число которых сегодня растет, оказаться в этих списках?
Сергей Давидис: Насчет возможности новых обменов, что‑то определенное сказать сложно. Может быть, будет еще один, максимум два. Хотя пока не понятно даже на кого политзаключенных менять. Насчет списков: у совсем малоизвестных людей шансов попасть в списки нет. Ведь состав списка это политическое решение властей тех стран, которые освобождают кого‑то взамен на российских политзаключенных.
Политические лидеры должны понимать, почему они принимают решение содействовать обмену отдельных людей, причины должны быть понятны и обществу. Обществу этого политзека нужно, очень грубо говоря, «продать». Потому что в демократических странах государство несет ответственность за принятые решения перед гражданами. Если о человеке ничего неизвестно, то и убедить своих граждан в том, что его нужно освободить невозможно.
Есть вариант с формированием каких‑то свободных списков для всех людей, которые лишены свободы по политическим мотивам, и заслуживают освобождения по максимально широким критериям. Здесь известность уже принципиальной роли играть не будет, поскольку речь идет о формальных критериях.
FRF: Что это за критерии?
Сергей Давидис: Ну, к примеру, что какие‑то организации, пользующиеся уважением, авторитетом, признают этих людей политзаключенными и считают, что их необходимо включить список. Но здесь уже речь идет о глобальном освобождении.
И может быть, путинский режим скажет, нет, 3 тысячи человек мы не освободим. Освободим только тысячу. В таком случае будут анализироваться аргументы, кейсы.
Но, в целом, фактор публичности, конечно, играет большую роль. И в конце концов, когда о людях действительно ничего не известно, это зачастую результат их собственной позиции, позиции их родных, их адвокатов. То есть они не хотят публичности.
Но давайте еще раз посмотрим на список людей, которых освободили год назад. Это, в основном, либо граждане иностранных государств, либо люди с двойным гражданством, либо действительно заметные публичные фигуры, чьи кейсы активно продвигали, создавали публичность, медийность.
И кстати, это не то же самое что «социальный капитал». Например, социальный капитал адвоката Талантова очень велик, а вот медийности ему не хватало. У Саши Скочиленко вообще не было медийности, пока не запустили масштабную кампанию в ее поддержку.
FRF: Давайте поговорим о том, как обстоят сейчас дела с обвинениями по политическим статьям. Иван, в последние годы очень выросло количество арестов по статье о госизмене. В чем, на ваш взгляд, интерес российского государства? Почему используется именно эта уголовная статья — чем она удобна или выгодна власти?
Иван Павлов: Это признак военного времени. На самом деле первую вспышку таких обвинений мы наблюдали еще в 2015 году.
Если раньше по этой статье выносилось 2–3 приговора в год, то в 15‑м году в судах рассмотрели уже 15 дел. До полномасштабного вторжения эта цифра почти не менялась. А после февраля 2022 года произошел еще один всплеск.
С начала действия нового уголовного кодекса в 1997 году, было возбуждено всего 200 делпо госизмене, шпионажу, и конфиденциальному сотрудничеству. При этом только за 3 года войны, мы зафиксировали 800 новых дел по таким статьям. Это в 4 раза больше, чем за предыдущие 25 лет.
Вот такая вот статистика. Есть внешние враги, они известны. А поиск внутренних врагов обуславливается в уголовном кодексе именно этими статьями.
FRF: Правильно ли я понимаю, что большинство обвинений в госизмене касаются Украины? Или встречаются случаи, связанные с другими «недружественными государствами»?
Иван Павлов: Сейчас это в большинстве случаев Украина. Раньше по‑разному было, даже «дружественный» Китай встречался. Но сейчас подавляющее число кейсов — это, конечно, Украина.
FRF: Как устроен механизм фабрикации уголовных дел по таким статьям? Можно ли говорить о повторяющемся паттерне? В последнее время мы видим несколько дел с участием совсем молодых людей — по схожему сценарию: их находят в оппозиционных чатах, выходят на контакт, а потом провоцируют на действия, которые квалифицируются как преступление. Насколько это стало системой?
Иван Павлов: Давайте для начала разберемся, что такое «госизмена», и как это работает.
Госизмена сейчас возможна в четырех формах.
Госизмена сейчас возможна в четырех формах.
Эта форма обвинений стала применяться только с 2022 года, и первым таким кейсом стал арест Владимира Кара‑Мурзы. До этого статья вообще не применялась.
FRF: А четвертый вариант?
Иван Павлов: Четвертый это переход на сторону противника. Он тоже появился в 2022 году. Были внесены соответствующие изменения в УК, в 275 статью.
Переход на сторону противника — это, отчасти, то, что вы описываете. Когда молодых людей ловят, скажем, в аэропорту. Либо вменяют им статью, не дожидаясь их отъезда. В качестве улики обычно выступает та самая переписка.
И чаще всего, по нашим наблюдениям, это провокация. Действительно, в переписку вступает некто, представляющийся иностранцем, а на самом деле это сотрудник органов.
FRF: Кажется, что дела по статье о госизмене все чаще идут в связке с обвинениями в терроризме. Насколько это системная тенденция? И можно ли утверждать, что рост таких обвинений напрямую связан с войной?
Иван Павлов: Действительно, довольно часто силовики стали вменять одновременно госизмену и терроризм. Например, участие в деятельности РДК, который признан террористической организацией в России. По мнению сотрудников органов такие обвинения работают как идеальная совокупность преступлений. Это всячески поддерживается судебными инстанциями.
FRF: Давайте поговорим о динамике репрессий в целом. Репрессивная система в России долгое время выглядела как набор точечных, хаотичных ударов — так называемый «рандомайзер». Но сейчас, когда количество дел по «тяжелым» статьям стремительно растет, можно ли сказать, что подход становится более системным, пусть и не массовым в советском смысле? Произошел ли качественный переход?
Иван Павлов: Насчет рандомайзера вы совершенно правы. Репрессии именно так и работают.
Надо постоянно повышать градус, увеличивать сроки, быть жестче. Но массовости нет и не будет, во‑первых, потому что на это ресурсов нет. Во‑вторых, в этом нет необходимости.
Эффект массовости самостоятельно возникает из‑за распространения информации через интернет, через пропагандистские СМИ. Если бы у Сталина был интернет, первый канал, он, вероятно, тоже мог бы обойтись точечными репрессиями. Здесь эффект достигается за счет быстрого распространения информации об обвинениях.
При этом количественно репрессии тоже растут по экспоненте. К примеру, в 2024 году было вынесено 360 приговоров по госизмене, шпионажу. При норме 15 приговоров в довоенные годы, а еще раньше 2–3 приговора в год. То есть обвинительные приговоры по госизмене выносили каждый день, включая выходные и праздничные дни.
Так что нет, репрессии не будут носить тотальный характер, но количественно все равно будут расти. Не исключено, что в этом году будет вынесено 500–600обвинительных приговоров. Кажется, что это очень много, но в стране‑то 150 миллионов человек.
Еще одна важная вещь: сами «чекисты» в массовости не заинтересованы, поскольку если приговоров будет много, дела будут цениться меньше. А крупные дела — это карьерный рост, премии, награды. Чем больше таких обвинений, тем меньше это сказывается на благосостоянии сотрудников органов.
FRF: Что могут сделать правозащитники и активисты, чтобы поддержать тех, кого преследуют по политическим статьям? Какие у нас есть реальные инструменты помощи?
Иван Павлов: Прежде всего, это, конечно, информирование. Когда права не работают, участие защитника может обеспечить прорыв информационной блокады, связь с близкими, с общественностью.
Чтобы общественность знала, что происходит внутри. И человек, чтобы знал, что снаружи о нем заботятся и продолжают ждать его. К огромному сожалению, в большинстве своем роль у защитников свелась к своего рода паллиативу, снижению страданий.
FRF: Спасибо. Сергей, а как вам кажется — нет ли ощущения, что люди уже выгорели от темы войны и репрессий? Что мы можем делать в ситуации, когда вовлеченность падает, а усталость нарастает?
Сергей Давидис: Ну, конечно, какая‑то усталость есть. Спустя три года внимание к войне и ко всем сопутствующим обстоятельствам несколько ослабло.
Но здесь речь идет о реакции обычных людей, потребителей информации. А политики по‑прежнему заинтересованы в том, чтобы политзаключенные были освобождены. Дело в том, что политика государств выстроена из многих компонентов. Демократические государства не будут заниматься тем, что их гражданами воспринимается как вредное, ненужное, опасное дело.
Освобождение политических заключенных, пусть и не вызывает огромного энтузиазма, но точно воспринимается как дело благое. Избиратели в Европе не будут ходить миллионными толпами по улицам и кричать «освободите российских политзаключенных». Но это и не нужно. Главное, что свобода, отсутствие политических репрессий — это ценности, которые европейские граждане по‑прежнему поддерживают.
FRF: А в США после смены политического курса эта поддержка остается?
Сергей Давидис: Я думаю, что да. В общем и целом, приверженность демократическим ценностям это по‑прежнему кредо подавляющего большинства правительств европейских стран. И таких объединений как НАТО, например. А что касается Соединенных Штатов — стоит вспомнить, что именно усилиями Соединенных Штатов недавно был освобожден Тихановский и другие беларуские политзаключенные.
Конечно, глупо думать, будто Трамп спит и видит, как бы ему освободить всех политзаключенных. Ну так и Байден, наверное, тоже не только об этом мечтал.
Подобные обмены являются политическими решения людей, на чьих плечах лежит огромная ответственность. Права иностранных политзаключенных и демократические ценности в других странах — лишь один аспект этой огромной ответственности. Но для руководителей государств по‑прежнему репутационно важны результаты, которые можно назвать гуманистическим и политическим достижением.
Беларуских политзаключенных дважды освобождали при содействии американской администрации. Значит такое может случиться и с российскими политзеками.
FRF: Но, чтобы это стало возможным, важно продолжать адвокационную работу и не позволять обществу забыть о происходящем. На ваш взгляд, о чем сегодня особенно важно говорить? Что должно звучать громче всего?
Сергей Давидис: Об украинских гражданских заложниках. И в этом случае важно в принципе говорить, поддерживать эту тему в фокусе общественного внимания, потому что об этих людях почти ничего не знают, или знают очень мало. При этом условия, в которых российская власть содержит украинских гражданских заложников несопоставимо хуже, чем условия российских заключенных. Здесь речь идет о настоящих пыточных тюрьмах.
Если же возвращаться к проблеме в целом, то не стоит изобретать велосипед. Важно привлекать внимание. Публичность это и поддержка, которую мы передаем незаконно осужденным людям, и способ контролировать условия их содержания, и порой способ сохранить жизнь этих людей.
Нельзя дать обществу забыть о политзаключенных.
Кроме того, постоянное привлечение внимания поможет нам сделать освобождение политзаключенных необходимым элементом мирного урегулирования. Повторюсь еще раз, это вполне вероятно. А вот станет ли это реальностью — во многом зависит от нас.
Эта форма обвинений стала применяться только с 2022 года, и первым таким кейсом стал арест Владимира Кара‑Мурзы. До этого статья вообще не применялась.
FRF: А четвертый вариант?
Иван Павлов: Четвертый это переход на сторону противника. Он тоже появился в 2022 году. Были внесены соответствующие изменения в УК, в 275 статью.
Переход на сторону противника — это, отчасти, то, что вы описываете. Когда молодых людей ловят, скажем, в аэропорту. Либо вменяют им статью, не дожидаясь их отъезда. В качестве улики обычно выступает та самая переписка.
И чаще всего, по нашим наблюдениям, это провокация. Действительно, в переписку вступает некто, представляющийся иностранцем, а на самом деле это сотрудник органов.
FRF: Кажется, что дела по статье о госизмене все чаще идут в связке с обвинениями в терроризме. Насколько это системная тенденция? И можно ли утверждать, что рост таких обвинений напрямую связан с войной?
Иван Павлов: Действительно, довольно часто силовики стали вменять одновременно госизмену и терроризм. Например, участие в деятельности РДК, который признан террористической организацией в России. По мнению сотрудников органов такие обвинения работают как идеальная совокупность преступлений. Это всячески поддерживается судебными инстанциями.
FRF: Давайте поговорим о динамике репрессий в целом. Репрессивная система в России долгое время выглядела как набор точечных, хаотичных ударов — так называемый «рандомайзер». Но сейчас, когда количество дел по «тяжелым» статьям стремительно растет, можно ли сказать, что подход становится более системным, пусть и не массовым в советском смысле? Произошел ли качественный переход?
Иван Павлов: Насчет рандомайзера вы совершенно правы. Репрессии именно так и работают.
Надо постоянно повышать градус, увеличивать сроки, быть жестче. Но массовости нет и не будет, во‑первых, потому что на это ресурсов нет. Во‑вторых, в этом нет необходимости.
Эффект массовости самостоятельно возникает из‑за распространения информации через интернет, через пропагандистские СМИ. Если бы у Сталина был интернет, первый канал, он, вероятно, тоже мог бы обойтись точечными репрессиями. Здесь эффект достигается за счет быстрого распространения информации об обвинениях.
При этом количественно репрессии тоже растут по экспоненте. К примеру, в 2024 году было вынесено 360 приговоров по госизмене, шпионажу. При норме 15 приговоров в довоенные годы, а еще раньше 2–3 приговора в год. То есть обвинительные приговоры по госизмене выносили каждый день, включая выходные и праздничные дни.
Так что нет, репрессии не будут носить тотальный характер, но количественно все равно будут расти. Не исключено, что в этом году будет вынесено 500–600обвинительных приговоров. Кажется, что это очень много, но в стране‑то 150 миллионов человек.
Еще одна важная вещь: сами «чекисты» в массовости не заинтересованы, поскольку если приговоров будет много, дела будут цениться меньше. А крупные дела — это карьерный рост, премии, награды. Чем больше таких обвинений, тем меньше это сказывается на благосостоянии сотрудников органов.
FRF: Что могут сделать правозащитники и активисты, чтобы поддержать тех, кого преследуют по политическим статьям? Какие у нас есть реальные инструменты помощи?
Иван Павлов: Прежде всего, это, конечно, информирование. Когда права не работают, участие защитника может обеспечить прорыв информационной блокады, связь с близкими, с общественностью.
Чтобы общественность знала, что происходит внутри. И человек, чтобы знал, что снаружи о нем заботятся и продолжают ждать его. К огромному сожалению, в большинстве своем роль у защитников свелась к своего рода паллиативу, снижению страданий.
FRF: Спасибо. Сергей, а как вам кажется — нет ли ощущения, что люди уже выгорели от темы войны и репрессий? Что мы можем делать в ситуации, когда вовлеченность падает, а усталость нарастает?
Сергей Давидис: Ну, конечно, какая‑то усталость есть. Спустя три года внимание к войне и ко всем сопутствующим обстоятельствам несколько ослабло.
Но здесь речь идет о реакции обычных людей, потребителей информации. А политики по‑прежнему заинтересованы в том, чтобы политзаключенные были освобождены. Дело в том, что политика государств выстроена из многих компонентов. Демократические государства не будут заниматься тем, что их гражданами воспринимается как вредное, ненужное, опасное дело.
Освобождение политических заключенных, пусть и не вызывает огромного энтузиазма, но точно воспринимается как дело благое. Избиратели в Европе не будут ходить миллионными толпами по улицам и кричать «освободите российских политзаключенных». Но это и не нужно. Главное, что свобода, отсутствие политических репрессий — это ценности, которые европейские граждане по‑прежнему поддерживают.
FRF: А в США после смены политического курса эта поддержка остается?
Сергей Давидис: Я думаю, что да. В общем и целом, приверженность демократическим ценностям это по‑прежнему кредо подавляющего большинства правительств европейских стран. И таких объединений как НАТО, например. А что касается Соединенных Штатов — стоит вспомнить, что именно усилиями Соединенных Штатов недавно был освобожден Тихановский и другие беларуские политзаключенные.
Конечно, глупо думать, будто Трамп спит и видит, как бы ему освободить всех политзаключенных. Ну так и Байден, наверное, тоже не только об этом мечтал.
Подобные обмены являются политическими решения людей, на чьих плечах лежит огромная ответственность. Права иностранных политзаключенных и демократические ценности в других странах — лишь один аспект этой огромной ответственности. Но для руководителей государств по‑прежнему репутационно важны результаты, которые можно назвать гуманистическим и политическим достижением.
Беларуских политзаключенных дважды освобождали при содействии американской администрации. Значит такое может случиться и с российскими политзеками.
FRF: Но, чтобы это стало возможным, важно продолжать адвокационную работу и не позволять обществу забыть о происходящем. На ваш взгляд, о чем сегодня особенно важно говорить? Что должно звучать громче всего?
Сергей Давидис: Об украинских гражданских заложниках. И в этом случае важно в принципе говорить, поддерживать эту тему в фокусе общественного внимания, потому что об этих людях почти ничего не знают, или знают очень мало. При этом условия, в которых российская власть содержит украинских гражданских заложников несопоставимо хуже, чем условия российских заключенных. Здесь речь идет о настоящих пыточных тюрьмах.
Если же возвращаться к проблеме в целом, то не стоит изобретать велосипед. Важно привлекать внимание. Публичность это и поддержка, которую мы передаем незаконно осужденным людям, и способ контролировать условия их содержания, и порой способ сохранить жизнь этих людей.
Нельзя дать обществу забыть о политзаключенных.
Кроме того, постоянное привлечение внимания поможет нам сделать освобождение политзаключенных необходимым элементом мирного урегулирования. Повторюсь еще раз, это вполне вероятно. А вот станет ли это реальностью — во многом зависит от нас.
«Пошук. Полон»: Судьба десятков тысяч военных и гражданских украинцев остается неизвестной
Владимир Жбанков
19.11.2024
 Доклад
Доклад Что делать для реконструкции прав и свобод?
Ольга Хвостунова
30.05.2024
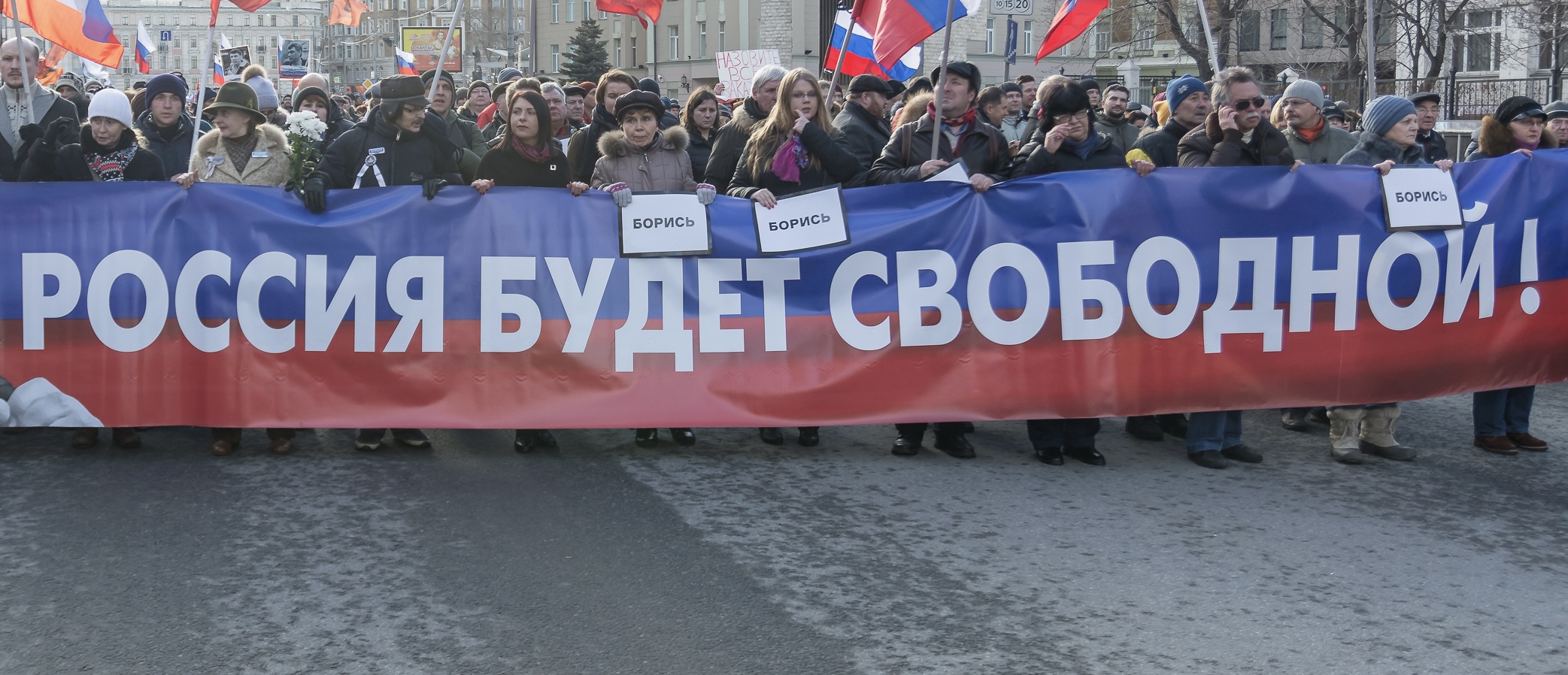 Статья
Статья Итоги года для российской политической системы
Василий Жарков
Александр Зарицкий
27.12.2024

«Пошук. Полон»: Судьба десятков тысяч военных и гражданских украинцев остается неизвестной
Владимир Жбанков
19.11.2024
 Доклад
Доклад Что делать для реконструкции прав и свобод?
Ольга Хвостунова
30.05.2024
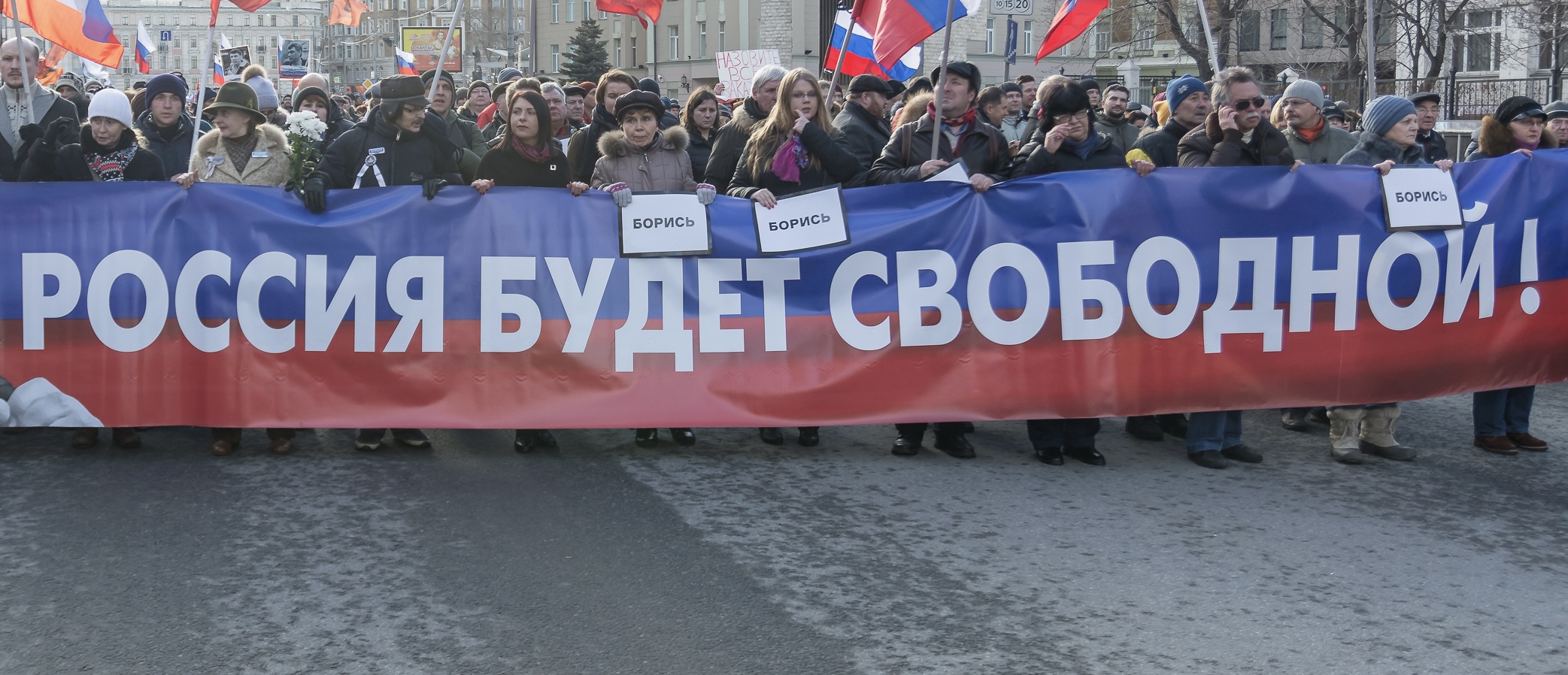 Статья
Статья Итоги года для российской политической системы
Василий Жарков
Александр Зарицкий
27.12.2024
